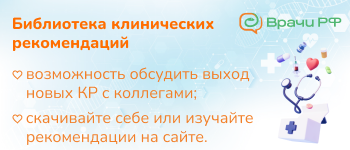ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМА И ВНУШЕНИЕ / ЗАЛКИНД А.Б.
ЗАЛКИНД А.Б.
Жизнь организма и внушение.- М.Л.: Госиздат, 1927.- С. 116–131.
Гл. XIX. Социальные факторы психоневрозов
О роли так называемого психологического фактора медицина знает уже очень давно, но лишь последние десятилетия она начала систематизировать накопившиеся материалы. Кстати, к последним же десятилетиям приурочивается и ряд чисто лабораторных, экспериментальных работ в этой области.
Опытным путем вполне доказано, что экспериментально вызываемые эмоции изменяют и качественный химизм крови и солевой ее состав, а это, в свою очередь, говорит с очевидностью о влиянии вызванного для опыта эмоционального состояния на симпатическую нервную систему и на органы внутренней секреции (интересные материалы у нас в СССР представлены, между прочим, клиникой проф. В.П. Осипова в докладах на II психоневрологическом съезде). Эмоции эти, в зависимости от их тонуса (положительные — радость, бодрость; отрицательные — ужас, отчаяние), могут оказывать на организм то тонизирующее, то подавляющее влияние, соответственным образом отражаясь в нервной системе и секреторных функциях, а отсюда и во всех прочих областях телесного бытия. Вполне очевидно, что такие физиологические сотрясения не ограничиваются узко местными отзвуками и дают как положительный, так и отрицательный толчок глубинным биологическим процессам, то способствуя более раннему и более тяжелому прорыву дремавших в теле болезненных явлений, которые без этого толчка — особенно без длительных подталкиваний такого рода — быть может, никогда и не проявились бы, то, наоборот, «замораживая», останавливая или сильно смягчая уже начавшийся болезненный процесс.
Таким образом вопрос о роли так называемого психологического фактора имеет под собою не только больничную, клиническую основу, но базируется и на ряде точных лабораторных опытов, которые относятся не только к обычным эмоциям, но и к состояниям, вызванным путем внушения или создавшимся после психоаналитического сеанса. Последний, как и всякое небезразличное для организма физиологическое состояние, — тоже, конечно, создает особый биологический отзвук.
Красноречивы, в смысле обоснования значения эмоциональных (т.е. рефлекторных) установок на всю физиологию, знаменитые опыты Фере2. «С целью исследовать влияние страха на ослабление сопротивляемости организма бактериям он, отбирая кроликов, голубей, белых мышей, одну группу из них поддерживал в течение нескольких часов под влиянием устрашающих раздражителей, а другую оставлял в покое. При посеве в крови второй группы никаких бактерий не обнаруживалось, кровь же животных, находившихся под страхом, дала колонии бактерий. В другой категории опытов животным производилась прививка патогенных3 микробов (куриной холеры, пневмоэнтерита свиней, пневмококков Френкеля). Одних при этом пугали, других оставляли в покое. Наблюдения показали, что при прививке микробов большей вирулентности4 спокойные животные жили значительно дольше, чем находившиеся постоянно под страхом. При прививке же микробов слабой вирулентности болели и умирали лишь бывшие во власти отрицательной эмоции. Другие же, спокойно жившие, или совсем не заболевали или, заболев, выздоравливали».
Знаменитый клиницист Штрюмпель, далеко не фанатик психологизма в медицине, однако, должен был признать, что добрая половина человеческой патологии обусловлена влиянием «психического» момента. Лучшие специалисты по внутренним и другим не нервным болезням, как на Западе, так и у нас, никакого отношения не имевшие к внушению и прочей психотерапии (Розенбах, Фирордт, Краузе, Боткин, Усов, Плетнев и др.), непрерывно напоминают об огромной роли психического фактора в развитии сердечных, сосудистых болезней, болезней печени и общего кровообращения, болезней внутренней секреции (щитовидная железа, половые железы, надпочечники), обмена и т.д.
В вышеупомянутом докладе5 мы, между прочим, указывали на чрезвычайно повышенную заболеваемость (не только «нервную», — но и общую) в воинских частях, находящихся в неблагоприятных «психических» условиях. «Рамки вопроса о психоневрозах войны выходят далеко за пределы одной лишь проблемы так называемых чистых психоневрозов, так как травматизирующий психогенный фактор — депримирующая (подавляющая) эмоция — пронизывает и обволакивает собою всю без исключения клинику войны — хирургическую, общесоматическую (внутреннюю), инфекционную, неврологическую, благодаря чему все без исключения болезненные формы характеризуются обостренной чувствительностью организма и чрезмерным затягиванием болезненного процесса. Таким образом проблема военных психоневрозов, это — проблема количества и качества всех без исключения военных заболеваний вообще, что является первоочередным вопросом боеспособности армии. Наибольшее количество этих общих (не только «нервных») заболеваний дают на войне боевые части, неоднократно испытавшие поражения, части с невнимательной, некультурной командной верхушкой, а также части сборные, с составом из различных местностей. Особой податливостью к болезням отличаются также бойцы из гонимых, униженных национальностей и из социально наиболее озлобленных слоев».
Вопрос о роли психологического фактора в жизни организма оказывается не только психоневрологической, но и общемедицинской проблемой, опирающейся как на клинику, так и на лабораторные опыты.
Из проведенного нами на протяжений предыдущих глав анализа психотерапевтического материала можно было заключить, что гвоздь этой огромной проблемы — как в патологическом, так и в лечебном ее материале — целевая установка организма. С этой точки зрения многое, остававшееся неясным для прежних клиницистов, расшифровывается сейчас вполне отчетливо.
Нам понятно теперь, почему западные клиницисты, работающие в массовом масштабе над распутничающей, обезумевшей плутократией, над разоряющейся буржуазией, над пролетаризирующейся интеллигенцией, мещанством, так упорно твердят о крахе миросозерцания, о развале оптимизма, о власти подавляющей озабоченности, об интеллектуальной растерянности как о первопричинах биологической хрупкости большинства своих клиентов. Дело, конечно, не в крахе миросозерцания, пессимизме и пр., а в процессе шатания, а то и разложения экономической устойчивости этих социальных групп. Выражением этого колебания, разложения являются и биологические, психофизиологические его отзвуки, включая сюда и отравленные настроения и прогнившее мироощущение представителей этих групп. Нарушена система их социальной устойчивости, основной жизненной их целеустремленности — социальной целеустремленности, тем самым расшатаны и все их биологические функции, так как человеческая биология в сложном, глубоко дифференцированном современном обществе насквозь, во всех деталях, пронизана социальными навыками, социальными целями. Нет ни одного органа, ни одной функции, которые не были бы теснейшим образом связаны с социальной целеустремленностью человеческого организма. Современный человек не только осознает себя, но и дышит, проводит кровь по сoсудам, выделяет секрецию, переваривает пищу не как человек вообще, а как представитель определенной общественной группы, накладывающей определенный социально-физиологический отпечаток на все его функции, на все его рефлексы. Ведь у каждого социального слоя своя среда, своя обстановка, система своих специфицированных раздражителей, которая и строит соответственно различный рефлекторный фонд.
Поэтому удивительно ли, что колебания общей позиции того или иного социального слоя вызывают у него не только «идеологические» сотрясения, но и грубые общебиологические изменения, выражающиеся в разнообразных нарушениях всех физиологических функций. Этим и объясняется колоссальный рост именно «психоневрозов» и обусловленных ими вторичных «отзвучных» болезненных состояний на современном Западе. Недаром Пьер Жане, этот умнейший из экспериментаторов в области психоневрозов6, еще 20 лет тому назад заявлял, что изменение жизненных обстоятельств разрушает биологические функции в наиболее высокой и сложной их части, в части их приспособления к новым условиям среды. Очевидно, среда устойчивого, экономически прочного социального слоя не разрушит этой высокой части биологических процессов.
Подобные соображения о массовой природе нашей «психогенной» биологической хрупкости проливают яркий свет и на вопрос о различных психотерапевтических методах. Какой смысл во внушении спокойствия и в «приказе» выздороветь, если основная жизненная позиция (доминирующие раздражители) не дает этого спокойствия и продолжает дезорганизовывать? Если разъяснения и эмоциональные толчки могут, пожалуй, создать отдельные полезные ориентировочные установки, то в основном, конечно, приходится задуматься над общей жизненной позицией больного. Лучше всего последняя уясняется из психоанализа. Психоанализом же, при указанных выше поправках, устраняется и ряд нерациональных устремлений. Однако, по существу, решающее слово остается за социальной средой. Марциновскому будет необычайно трудно вдохнуть свой идеалистический оптимизм в начавшее отчаиваться, разлагающееся буржуазное общество, по крайней мере в его массе. История работает на углубление этого пессимизма, и не индивидуальной психотерапии переть против исторического рожна.
Однако из этого же обоснования с неумолимой последовательностью вытекает и вывод о повышенном общебиологическом тонусе нового класса, радостно, бодро, организованно идущего к борьбе за свою жизнь, за власть, осознавшего свою прочную, лишь сейчас зарождающуюся, историческую миссию, наметившего себе яркие перспективы, — одним словом, класса с твердой, ясной и стойкой, молодой установкой. Целеустремленность его членов, конечно, непохожа на разваливающуюся установку его противника: последний постепенно слабеет, первый неуклонно крепнет. Задача лечебно-целевого перевоспитания больных психоневротиков из среды молодого, революционного класса оказывается качественно иной, чем воздействие на его клинических коллег из отходящего класса.
Конечно не надо сентиментальничать. Заболевают, — крепко и часто заболевают также и представители молодого, революционного класса. Среда, раздражители эксплуататорского да и нашего начального, пока советски-предкоммунистического строя далеко не способствуют идеальнейшей налаженности всех целеустремлений рабочих, трудовых масс, и предостаточно дезорганизаций, тормозов, конфликтной путаницы у молодого класса. Однако это все же иной класс, — среда его, состав раздражителей иной, чем у врага, и лечить его надо по-особому.
Оставим для наших классовых врагов «чудодейственное» средство — усыплять своих больных, одурманивать их, ослаблять их критику и тем понижать их вполне естественную панику, — одним словом, пусть наши враги лечат внушением.
Действительно, куда еще спасаться разлагающемуся слою, выбрасываемому из реальности, кроме мира искусственных построений? Этим и объясняется пышный рост культа гипноза за последние десятилетия. Место его — рядом с кокаиноманией, столоверчением и прочей «успокаивающей терапией». Гипноз идет по линии распада определенного социального слоя, рабски обслуживая этот распад, всемерно стараясь смягчить, наркотизировать боль от падения сверху вниз. Для этого и «мудрый сон», и «задержка контрпредставлений», и прочив меры сужения критики, — меры наркоза. — Нужен ли этот наркоз, гипноз молодому классу?
Лишь вонзившись всем существом в реальность и боевую активность, новый класс может наладить свою здоровую целеустремленность, т.е. и общее свое здоровье. Не бегство от реальности и борьбы в сон и внекритическую подчиненность, а самая отчетливая и широкая явь, самая неумолимая критика по адресу всех явлений жизни. С отдачей своей индивидуальности в распоряжение гипнотизера эта позиция, как видим, достаточно плохо вяжется. Как не пойдет сознательный рабочий в церковь или к знахарю получать исцеление, так же не будет он ходить и к гипнотизеру.
Зачем же ему отказываться от помощи, — спросят нас, — если эта помощь может быть ему оказана? — Но ведь и в церкви, при вере, он тоже получит лечебную помощь. Без веры же, без легковерия толку не будет и от внушения. Веру ли, ослабленную ли критику, подчиняемость прикажете нам культивировать в рабочих массах, в этих исторически непревзойденных творцах диалектического материализма и революционного активизма? Конечно, в отчаянных условиях, когда прибегают и к пулеметной педагогике, когда нет других средств под рукой, а спасать надо немедленно, лучше воспользоваться честным медицинским внушением, чем жульничающей религией. Однако только в отчаянных случаях, повторяем! В других случаях мы имеем, как видели, под руками более действительные и совершенно безвредные средства.
Нужно отметить, что психоневрозы трудовых, рабочих масс во многом сильно отличаются от этих же заболеваний «высших» социальных слоев. У рабочего нет ни той избыточной нервной энергии, ни той паники перед реальностью, которая слишком часто характеризует его клинического коллегу из враждебного класса. Заболевания рабочего, трудового человека в большинстве выражают собою непосредственную реакцию его на непосредственные же, объективные жизненные тягости. Голод, холод, истощение от непосильного, нездорового и неприятного труда, — все эти основные, биологические факторы, травматизирующие рабочего, вызывают прямое истощение телесных функций, а не психоневроз. Те интеллектуальные дефекты, которые создаются хронически голодной кровью, те тяжелые эмоции, которые вызываются неизживающимся органическим переутомлением, — мало похожи на ложные самовнушения и преувеличенные опасения психоневротиков. Больной рабочий ищет сна потому, что сон даст покой, отдых его костям, мышцам, нервам, а вовсе не потому, что он панически боится реальности, яви. Дайте ему отдохнуть, окрепнуть, и он жадно, цепко схватится за реальность обеими руками, — не оторвешь. Для такого истощившегося, истрепавшегося организма особое лечебное значение чистого так называемого психологического фактора окажется, конечно, гораздо менее действительным, чем для организма, попросту запутавшегося в реальности. В самом деле, что могут дать разъяснения, эмоциональные толчки, психоанализ и пр. — ногам, плохо двигающимся потому, что они покрыты ревматическими узлами и трещинами, — желудку, изъязвленному дрянной, гнилой пищей, — сердцу, надорванному у адского пекла на металлическом заводе? Здесь основное воздействие — непосредственная социальная борьба за улучшение условий труда и быта, и непосредственная медицинская помощь — прямые биологические мероприятия (лекарственные, механические и пр.), направленные на больной организм, на больные функции. Тут не до психотерапии.
Психоневроз формируется большей частью на почве неиспользуемой энергии и страха реальности. Когда организм должен быть полностью, без остатка сосредоточен на боевой жизненной активности, когда основные, безусловные его интересы (безусловные рефлексы) непрерывно задеваются окружающей реальностью, требуя адекватной борьбы, приспособления, — в таких условиях не будет излишней энергии, и не окажется возможности спастись от реальности: или живи, т.е. борись, реагируй всем своим биологическим фондом, обратись к реальности всем своим существом, — или погибай. При столь острой постановке вопроса психоневроз обычно вовсе не развивается, так как безусловный опыт организма (безусловные рефлексы) начинает доминировать над иными накоплениями и не дает им извращаться по линии бегства от реальности, по линии безответственных рефлексов.
Психоневроз, имевший место до появления этой острой постановки жизненного вопроса, часто ликвидируется вскоре после такой постановки, так как теряет почву под собою, почву компромисса или полукомпромисса с реальностью (надо бороться реально на все 100%). Известны примеры сотен больных психоневротиков из сытых слоев, выздоровевших от психоневроза за тяжелые, голодные годы нашей гражданской войны, потребовавшие от них максимального, вполне реалистического биологического приспособления7.
Таким образом мы видим, что психоневроз, по преимуществу, болезнь непролетарских слоев, экономической дезорганизацией которых за последние десятилетия и объясняется чудовищный расцвет именно этой формы болезни, а вместе с тем и богатое развитие психотерапевтических школ. Слои эти еще не голодны, они лишь колеблются в своих позициях, озабочены, не могут приложить полностью свою энергию, реальность только начинает им показывать свои злобные клыки, — и растерянность, питаясь оставшимся избытком энергии, превращается в пышный ветвистый психоневроз.
Значит ли это, что рабочий, трудовой человек «низов» не заболевает психоневрозом? Нет, не значит. Часто и сильно болеет, хотя и не так часто и совсем не так тонко, ухищренно болеет, как психоневротики буржуазии. Чем же у него обусловлены явления психоневроза?
Как ни требовательна жизнь, как ни пытается организм полностью ответить на ее требования, — от ошибок, подчас очень серьезных ошибок, эти ответы не гарантированы. Современная социальная среда представляет собою слишком плохую систему включателей, «штепселей», для правильного распределения путей и силы той энергии, которая имеется в организме. Сам же современный организм очень далек от того идеала психофизиологической машины, который всегда обеспечивал бы действительно первоочередные, необходимейшие сейчас ответные подачи. Мудрое господство безусловных, наследственно проверенных рефлексов над новыми, еще колеблющимися накоплениями надо понимать очень и очень условно, так как, во-первых, в современных жизненных условиях эти безусловные рефлексы далеко не мудры, — во-вторых, они... далеко не всегда господствуют.
О неумной системе биоэнергетических штепселей в буржуазном строе вряд ли стоит распространяться. Хаос, противоречия современной экономики — плохие стимулы для правильного распределения индивидуальной биоэнергии человека. По поводу же «немудрости» современного человеческого организма — особо поговорить необходимо, так как в этом вопросе скрывается основной гвоздь психофизиологии психоневрозов. Здесь же лежит и объяснение, почему не забронированы от этой болезни трудовые низы.
Производственный прогресс ломает и коверкает сейчас окружающую так называемую естественную природу, подчиняя ее человеку. Человеческий организм, по мере освобождения себя от непосредственной власти естественной среды, все больше подпадает под влияние тех условий, которые развиваются вместе с ростом производительных сил. Все меньше зависит он от естественной природы (солнца, леса, реки и пр.), все глубже погружается он в усложняющуюся искусственную среду, созданную производством, в среду общественную. Рост индустриальной техники последнего столетия перекраивает заново всю установившуюся в период примитивного земледелия систему биологического опыта человека. Люди пользуются конечностями, органами чувств, дышат и т.д. в современных городах, при современном типе борьбы за существование, далеко не так, как это проделывалось их предками несколько столетий назад. Это меняет, конечно, и всю установку внутренних органов. Все так называемые «инстинкты», все так называемые «типические» законы пола, возраста, наследственности, все установившиеся некогда нормы основных функций (пищеварение, кровообращение, дыхание и т.д.) претерпевают сейчас, под давлением гигантски усложняющегося производственно-общественного бытия, глубочайшие и достаточно быстро развертывающиеся метаморфозы. Некогда твердая, мощная система древних биологических навыков человека, дававшая право говорить о почти прочных законах человеческой физиологии, зашаталась, раздробилась и начала расползаться по всем швам. Но окружающая производственно общественная среда меняется сейчас с чрезвычайной быстротой, и человеческий организм не успевает зафиксировать устойчивую серию новых биологических свойств, способных, как бронирующий фонд, переходить по наследству. Большинство вновь приобретаемых биологических сочетаний оказывается легко разрываемыми и требующими беспрестанных, все новых, и поневоле пока хрупких, поправок.
Итак, обладает ли современный человеческий организм капиталистического общества стойким, врожденным, унаследованным фондом, прочно бронирующим его против грубых посягательств резко и быстро меняющейся, ломающейся социальной действительности? Очевидно, нет. Наша социальность приобрела необычайную динамичность, текучесть и ломкость далеко не сегодня. Все последнее столетие характеризуется постепенным нарастанием этого динамизма, нарастанием, которое не мирилось со старыми, унаследованными навыками человеческого тела и требовало новых к себе приспособлений. Человеческий организм, в течение сотен и тысяч лет привыкший к широкой лесной, речной, полевой спокойной и чистой солнечной дали, оказавшийся вдруг закупоренным в коробках пыльных, серых, грохочущих, задымленных городов капитала, принес с собою ненужные городу прадедовские биологические навыки и не принес, наоборот, нужных. Для мускулов его, для легких, для глаз, для сердца, для желудка возникли армии новых невиданных раздражений, перед которыми организм становился в тупик. Сила, глаза, движения охотника, рыбака, земледельца — никуда не годятся перед специальной «хитрой» силой городского жителя. Надо было заново учиться. Безусловный рефлекс, наследственный навык давал в этих условиях лишь инстинктивный толчок, да и то вслепую, часто мимо цели. Требовался огромный новый, свежий опыт, целая мощная колонна организованных добавочных пластов — условных рефлексов, становившихся все более властными, вносивших глубокие ломки в дедовский биологический багаж, который оказывался все менее пригодным, чрезвычайно быстро дряхлея.
Мы видим, что прадедовский, унаследованный фонд организма слабеет в нашем современном социальном окружении. Но крепнет ли новый ценный биологический фонд, успевает ли он стойко передаваться по наследству взамен старого гибнущего? Нет. Среда слишком неустойчива, слишком текуча, слишком быстро меняется, обновляется в своем содержании, чтобы дать возможность прочно устояться накопившемуся биологическому опыту. Вновь и заново появляющиеся раздражители, отбрасывая старые элементы среды, уничтожают и упрочившийся было условный рефлекс, требуя взамен другие рефлексы, соответствующие новому содержанию раздражителя. По наследству передать такой летучий, хрупкий опыт, конечно, нельзя. Экономические кризисы, войны, революции, колоссальная техника современности не потерпят такого биологического консерватизма. Но вместе с тем они мало содействуют и росту новых приспособлений, росту новой, свежей динамики тела. Поэтому в области своего личного опыта современный человеческий организм оказывается защищенным в очень недостаточной степени. Довоенная, военная, послевоенная эпоха — 1910–1926 гг. — глубоко различные социальные периоды с различными биологическими установками. То, что было ценным 10 лет тому назад, во многом бессмысленно сейчас, — и наоборот. Прочности нет почти ни в одном сложном навыке. Инстинктивность, безусловная автоматичность слишком часто либо вредны (старо), либо просто невозможны ввиду краткости бытия этого навыка(безусловный автоматизм — свойство лишь старых навыков)8. Всегда начеку, всегда, непрерывно в положении усилия, ответственных поисков, — все это весьма неудобная позиция для накопления прочных, гибких навыков. Тем самым организм мало защищен от разных паразитических посягательств на него, от влияния на него вредных переключателей, которым он не может противопоставить ни мощной наследственной брони, ни приобретенной силы и гибкости. Линия наименьшего внутреннего сопротивления, как бы биологически бессмысленна она ни была, слишком часто оказывается в таких условиях наиболее для него удобной.
Во избежание нелепых обвинений в руссонианской (вслед за Руссо) тоске по «счастливому человечеству золотого века», оговоримся, что в этой временной хрупкости имеются, однако, зарождающиеся на ее почве ценнейшие прогенеративные9 элементы. Человечество проходит через патологическую стадию психоневроза, чтобы в дальнейшем использовать богатейший рефлекторный фонд этого психоневроза в целях особого укрепления своей биопластичности и своего творчества. Рост производительных сил создает капиталистический хаос, но в этом же хаосе рождается мощная организация пролетариата и мощная хозяйственная организация
социализма. Диалектика, — не только в социологии, но и в психофизиологии. О прогенеративной роли психоневроза (не психоза, — а «психоневроза»: это не старая точка зрения Ломброзо10), однако, в данной работе говорить не придется, так как книга целиком посвящается патологии и терапии. Проблема будет разработана в другом месте.
Как видим, безусловные рефлексы далеко не всегда мудры и мощны сейчас, мудрость же и прочность условных рефлексов, в основном зависящая от качеств наружных «штепселей», еще более сомнительна. В такой позиции — все данные для появления извращенного условно-рефлекторного фонда, все данные для расцвета психоневрозов.
Поскольку психоневроз любит питаться паразитирующей энергией и правом на бегство от реальности, это свойство сближает его больше с сытыми социальными слоями: поскольку же он строится на рефлекторной беззащитности организма, на воспитанных рефлекторных извращениях, он оказывается, к сожалению, «внеклассовой» болезнью.
1 Примечание редактора. В публикуемой главе монографического исследования профессора А.Б. Залкинда в большей мере, чем в других материалах, представленных в антологии, можно увидеть абсурдность использования «классового подхода» к оценке болезненных расстройств. Однако в умах многих исследователей он существовал, особенно в первые годы революционных событий в России и во время Гражданской войны. Публикуемая работа показывает связь психиатрии с социальными событиями, нередко вмешивающимися в оценку клинического состояния больных.
2 Цитируем цо К.И. Платонову.
3 Болезнетворных.
4 Большей вредоносности.
5 См. наши «Очерки культ. револ. времени», 1924, стр. 84 и др.
6 П. Жане. Неврозы (рус. перевод, 1911).
7 Кроме нашего основного доклада («Революция и психоневрозы») по этому вопросу на II психоневротическом съезде, об этом же на съезде сообщали проф. В.П. Осипов и другие (на дискуссии по докладу).
8 Конечно имеются очень существенные автоматизмы, не потерявшие своего смысла, но все они в той или иной степени «потревожены».
9 Дегенерация — вырождение; прогенерация — творчество нового.
10Ломброзо и др. (Нордау в особенности) искали корни гениальности в психозе.
Источник информации: Александровский Ю.А. Пограничная психиатрия. М.: РЛС-2006. — 1280 c. Справочник издан Группой компаний РЛС®